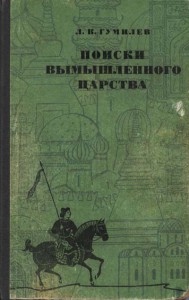«У него все время было стремление работать, работать, работать…» Из воспоминаний Натальи Викторовны Гумилевой

Лев Николаевич Гумилёв с женой Натальей Викторовной Гумилёвой (9.2.1920 – 4.9.2004) и собакой Алтыном. Ленинград, 70-е годы
Со Львом Николаевичем мы познакомились совершенно неожиданно, в 1965 году, у нашего общего друга — художника Юрия Матвеевича Казмичева. Он был петербуржец и еще до войны дружил со Львом. Когда Лев очень голодал, то иногда забегал к Юре попить чайку и попозировать ему (за что Юрий Матвеевич иногда даже что-то платил). Но еще больше Льва привлекала возможность побеседовать с братом Юры — Михаилом Матвеевичем — высокообразованным человеком, замечательным переводчиком с испанского и португальского, который хорошо знал поэзию и историю. Во время войны, в эвакуацию, Юра попал в Москву, потом женился и стал москвичом.
Однажды Юра позвонил мне и сказал, что к нему приезжает друг, которого он не видел, наверное, лет пятнадцать. Это замечательный человек, умница, доктор наук. Юриной жены Оли в тот момент не было в Москве, и он попросил меня помочь устроить небольшой стол для гостей.
Я конечно согласилась. Испекла небольшой пирог и приехала к вечеру в мастерскую Юры, куда-то на окраину города, организовала ужин, и мы стали ждать гостя. Было еще несколько приглашенных — художников и ученых.
Когда Юра сказал мне, что его друг — сын Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, на меня это не произвело никакого впечатления. Я, конечно, слышала об Ахматовой (у нас дома, у папы, была даже книжечка ее стихов), но мне был интересен именно друг Юры — такой, по его словам, замечательный и талантливый человек. А то, что он сидел 14 лет, было для меня вообще поразительно, как своего рода эталон трагичности и героизма.
Мы сели за стол в мастерской — небольшой длинной комнате, где Юра работал. Я сидела в конце стола, откуда мне была видна дверь. И вот она открылась, и перед нами предстал человек с очень светлым и детским выражением лица, излучающий доброту. Одет он был в короткий пиджак, из рукавов которого выглядывали манжеты рубашки. Но я прежде всего обратила внимание на лицо: какое удивительное светящееся лицо! Он галантно поклонился, сел с нами за стол, очень легко включился в общий разговор, стал сразу что-то рассказывать…
Так мы познакомились, и, мне кажется, я сразу в него и влюбилась. Я не могла от него глаз оторвать, только на него и смотрела: добрейшее лицо, но при этом он часто уходил в себя (глазами вроде смотрит на тебя, но чувствуешь, что он где-то далеко). Он даже мог что-то при этом говорить, но думал о своем: у него в голове все время шел мыслительный процесс.
Лев через несколько лет после нашей первой встречи мне рассказывал: «Я посмотрел и подумал: О, какая красивая москвичка! Ну, тут не “обломится”. У нее, наверное, тьма поклонников. Так что я даже и не рассчитывал».
Но наш Юра Казмичев очень хорошо относился к нам обоим и считал, что хорошо бы нас соединить, и стал своего рода свахой. Через какое-то время после той первой встречи Юра опять позвонил мне и сказал, что приезжал Лев Николаевич и спрашивал: «Как там поживает наша красивая москвичка?» Он, значит, меня запомнил. Но меня в то время не было в Москве. А на третий раз, уже в 1966 году, когда он приехал, то позвонил мне и сказал, что скоро у него выйдет новая книга и он привезет ее мне в подарок. То есть у него появился предлог повидаться, и я тоже была этим довольна. Я дала ему по телефону свой адрес. Он очень обрадовался.
Это было трудное для Льва Николаевича время. В марте 1966 года умерла его матушка Анна Андреевна, и начались всякие сложности и неприятности: наследие Ахматовой начали делить Пунины, хотя Лев был единственным сыном и законным наследником и отдал все безвозмездно, по дарственной, в Пушкинский Дом, получив совершенно формально 100 рублей. Пушкинскому Дому запретили принимать архив от Льва Николаевича, Союз писателей принимал все решения не в его пользу. Он был измучен тяжбами, длившимися уже почти полгода. Но вопреки всему И.Н.Пунина весь архив Ахматовой за большие деньги продала в две организации.
Когда в августе 1966 года Лев Николаевич в очередной раз приехал в Москву и позвонил, я пригласила его зайти. Он был очень вежливый, немножко чопорный (он ведь воспитан был бабушкой, которая по сути дела воспитала трех сыновей — Николая Степановича, Дмитрия Степановича и Льва. Он с ней был с рождения, и получил хорошее воспитание: знал, как себя вести с дамами, мог поцеловать руку — это все ему было просто). Лев подарил мне свою книжку «Открытие Хазарии» с надписью: «Очаровательной Наталие Викторовне Симоновской от автора. 30.VIII.1966».
Когда он пришел, все было очень мило, но чувствовалась какая-то неловкость, говорить было трудно. И он быстро ушел. Я подумала: это хороший признак — то, что он умеет уходить. В этом отношении со Львом всегда было легко, он был очень деликатным человеком.
А уже в следующий раз я встретила гостя более основательно, что называется «разложила шатер». Я ужасно волновалась, потому что была уже влюблена. А Лев мне казался таким спокойным. Он стал меня дотошно расспрашивать — о моем происхождении, о семье, пока не убедился, что все в порядке. И тогда я поняла, что он не зря интересуется. Через несколько дней он снова мне позвонил и предложил встретиться и погулять по Москве. Ну, где у нас можно встретиться? Я жила на Зубовской: между Плющихой и Крымской набережной, поэтому и предложила пойти в Парк культуры имени Горького. Он согласился.
Мы сели в автобус, хотя ехать нужно было всего две остановки, и тут я поняла, что денег у меня нет. Я ему призналась в этом, а он сказал: «У меня есть». Ну, я успокоилась: значит, все будет хорошо.
Он был очень грустный, потому что умерла матушка, на носу суд о наследстве, но он мне ничего об этом не говорил (я только со стороны узнавала обо всех этих неприятностях). Сели мы в парке в открытом кафе за круглый столик, нам принесли какое-то жесткое мясо, все было весьма не романтично, но несмотря ни на что, мне было очень приятно просто находиться рядом с ним. И тут он предложил прокатиться на пароходике по Москва-реке. Я с радостью согласилась.
Сели мы на пароходик; людей было мало — так хорошо, уютно, солнышко светит. Я сидела около окошка, и вдруг он — чмок! — и поцеловал меня в щеку. Я вся замерла, а он опять сидит, как ни в чем не бывало. В конце концов, приехали опять на Зубовскую площадь. Я его к себе не пригласила, попрощалась с ним, а он очень удивился, расстроился и спросил: «Когда вас можно навестить?» Я ответила: «Не раньше вторника». И он пришел ко мне во вторник. Тогда уже начался наш настоящий роман. Через некоторое время Лев сделал мне предложение стать его женой.
Мы договорились, что через какое-то время я приеду в Ленинград. Но раньше середины июня я приехать не могла, так как мне нужно было закончить иллюстрации к книге и сдать работу в издательство. Я хотела ехать не с пустыми руками, а получить деньги, чтобы было с чем начинать новую жизнь. Лев сказал, что тоже должен закончить работу с гранками «Древних тюрок». Поэтому решили, что я приеду 15 июня.
Он уехал, я скорее принялась заканчивать оформление книжки о какой-то пионерке, которую мне заказали в «Детгизе». В конце концов, я ее вымучила. Прошел месяц, полтора, уже приближается 15 июня, а Лев не звонит, не пишет. Я подумала, может быть, он передумал, и написала ему маленькое письмецо на открытке, совершенно детское, с вопросом: «Может быть, Вы раздумали жениться?»
Через несколько дней получаю открытку: «Я Вас жду 15-го. Все в порядке. Пол вымыт». Я удивилась: причем здесь пол? Таков был Лев: коротко и точно!
В то время Московский проспект был еще новым районом, стояли большие сталинские дома, была открытая площадь, на ней Ленин с простертой ручкой, небольшой скверик. Когда мы подошли к дому, Лев сказал: «Вот тут я живу» и показал свое окно на 6-м этаже. А вокруг окна почему-то все было черное. Я спросила: «А почему же оно такое черное?» — «А это мы так курим». То есть они так страшно курили в открытую форточку, что кирпичи закоптились. (Лев курил всю жизнь, до самой смерти, причем очень много и только «Беломор» — просто не выпускал папиросу изо рта. Только в последние годы, когда уже сильно заболел, стал курить меньше.)
Дом назывался «эпохи реабилитанса», то есть был построен специально для реабилитированных. Мы поднялись на 6-й этаж, в квартиру. Это была малогабаритная трехкомнатная квартира с маленькой кухней, в которой обитали милиционер Николай Иванович с женой и сыном Андрюшкой, Павел — «поэт» и страшный пьяница с женой Раисой, еще какие-то тетки и дети. Они меня встретили настороженно. Я поняла, что там надо себя вести потихоньку и постепенно отрегулировать отношения.
Лёвочкина комната была маленькая — 12 метров, узкая, но светлая — в окно было видно много неба, но меня поразил какой-то специфический запах. Я понимала, что, будучи доктором наук, он занят только наукой, долго сидел, но чтобы жить в таких условиях?!
Это была первая за всю жизнь собственная комната Льва, и он был счастлив и горд, что имеет свой угол. Переехать в Москву было невозможно, потому что у него была работа в Ленинградском университете; из Эрмитажа его перевели в Экономико-географический институт при университете, и сказали: «Вы не отказывайтесь, Лев Николаевич!» А Льву что? Ну, пусть география. И он начал читать студентам курс исторической географии; его лекции пользовались большим успехом. Еще одной отдушиной для него было Географическое общество, где он был председателем секции этнографии, организовывал семинары и выпуск научных сборников.
Нас начали посещать некоторые знакомые Льва, например Гелиан Прохоров (это был его главный ученик) и его жена Инна. Лев в свое время очень их любил. Но позже Гелиан начал ему почему-то грубить, перестал быть внимательным, отказался быть продолжателем идей Льва — видимо, его тоже о чем-то предупредили, а может и завербовали. Лев называл это «гусиным словом». «Какое-то гусиное слово людям говорят, и они сразу отходят от меня». Про это «гусиное слово» ему признался только Володя Куренной. Он был архитектор, строитель, приехал из Средней Азии, был со Львом несколько раз в экспедициях, потом стал преподавать в строительном институте ЛИСИ. Володя рассказал, что его вызвали в Первый отдел института и сказали: «Вы, кажется, теорию Гумилева читаете студентам, так извольте это прекратить, а то вам придется уйти из ЛИСИ». Это был единственный человек, который признался Льву Николаевичу, что его вызывали. Остальные просто грубили, и поэтому приходилось расставаться. Лев говорил: «Ложь я не переношу».
За Львом Николаевичем постоянно был негласный надзор органов. В той коммуналке на Московском проспекте жил милиционер Николай Иванович, которому было поручено присматривать за Львом. Но он, слава Богу, по натуре своей был человек добрый и, исполняя свою службу, при этом добродушно советовал: «Ты, Лев Николаевич, бумажки-то со стихами рви, в уборной не оставляй!» Во время обострения советско-китайских отношений спрашивал Льва: «Что ты там пишешь, Лев Николаевич? Это за Китай или против?» — «Да, против, Николай Иванович». — «Ну, тогда больше пиши!» Доброта его и погубила: он пожалел немца-туриста, который на улице Питера торговал колготками, не задержал его, а на него самого потом донесли и выгнали из милиции. Он начал еще больше пить, жена его запилила, и однажды он пошел на чердак и там повесился.
В целом же, несмотря на внешние неприятности и бытовые тяготы, мы были тогда очень счастливы в этой маленькой комнатке, потому что любили друг друга, и нам было очень хорошо и легко вдвоем. Да и окружение в этой коммунальной квартире все-таки было очень хорошее, доброжелательное. Еще до меня соседки помогали Льву с хозяйственными делами, а он любил возиться с ребятами. Павел — поэт, здоровый детина, но, к сожалению пьяница, все время писал какие-то стихи и давал Льву читать; он же по дружбе сколотил Льву книжные полки.
Прожили мы вместе в этой маленькой комнатке семь лет (а Лев — семнадцать), и в один прекрасный день к нам пришел изумительной красоты старый монгол. Это был академик Ринчен (Монгольский писатель и ученый /1905–1977/ — прим. Ред.), он занимался этнографией степных народов, прекрасно знал языки, они со Львом вели научную переписку. Будучи проездом в Ленинграде, Ринчен посетил Льва Николаевича. На нем был роскошный синий халат, подпоясанный поясом с серебряными бляхами, в шапке из черно-бурой лисы. Его сопровождал какой-то человек, по всей видимости, стукач. Он увидел Ринчена в экзотическом наряде в метро, прицепился с расспросами, проводил его до самых дверей Льва Николаевича, а вслед за академиком и сам просочился в квартиру. Но дело не в этом. После посещения Ринчена к нам пришла дворничиха и сказала: «Не хотите ли сменить комнату на большую, но тоже в коммуналке?» Видимо, соответствующие органы решили, что неудобно Гумилеву жить в этой берлоге, если к нему ходят такие важные гости. Предложили комнату на Большой Московской, в доме около Владимирского собора. С одной стороны от нас был Музей Достоевского, а с другой — дом, где прежде жил Чернышевский. Лев тогда говорил: «Ну, теперь я живу между двумя каторжниками». Там уже было просторнее, да и расположение в центре города Льву нравилось, хотя были и свои минусы.
В этой коммунальной квартире нашим соседом стал тюремный служащий. Жил он с семьей, а свои обязанности по отношению ко Льву исполнял более рьяно, нежели милиционер Николай Иванович, но тоже страшно пил. В той комнате постоянно, в наше отсутствие, проводили «шмоны», искали что-то в бумагах. Лев, зная их повадки и уже разозлившись, однажды написал записку: «Начальник, когда шмонаешь, книги клади на место, а рукописи не кради. А то буду на тебя капать!» и положил в ящик письменного стола. Записка примерно такого же содержания лежала и в его письменном столе и в моей московской квартире, куда мы переезжали каждый год на лето (а зимой, соответственно, квартира была ненаселенной и посещалась «заинтересованными товарищами»).
Из жизни в Ленинграде мне особенно запомнились наши многочисленные поездки по пригородам Ленинграда. Прямо под нашим домом останавливался автобус, и почти каждую субботу или воскресенье мы на него садились и ехали в Царское Село или в Павловск. Ездили мы и в Гатчину, в церковь, где вел службу отец Василий (Бутыло), который многие годы был духовным отцом Льва Николаевича. Лев очень любил церковное пение. У нас дома было много грампластинок с записями православных песнопений, и Лев их с удовольствием слушал. В некоторые праздники, особенно на Пасху и в Рождество (уже в последние годы жизни Льва, когда идти в храм ему было тяжело), я готовила праздничный стол, зажигала свечи и включала какую-нибудь из этих пластинок. Было так торжественно и возвышенно.
В театры мы ходили часто, особенно на балеты. Наш друг Савелий Ямщиков, искусствовед и реставратор, был женат на известной балерине Мариинского театра Валентине Ганибаловой, поэтому мы с большим удовольствием пересмотрели множество спектаклей.
А в те первые мои ленинградские годы мы совершали чудесные долгие прогулки по паркам, которые производили на меня даже большее впечатление, чем самые наилучшие и красивейшие спектакли. Когда мы со Львом гуляли по паркам, он непрерывно рассказывал об истории, читал стихи, и делал это превосходно. Мне, как художнице, хотелось мир созерцать, смотреть на все вокруг и любоваться. Я ему говорила: «Лёв, ну подожди, посмотри, какая красота, тебе же надо передохнуть». Ответ был: «Ничего я не устаю. Я отдыхаю таким образом». И продолжал рассказывать об истории.
Вероятно, во время этих бесед он размышлял над своими концепциями, что-то сопоставлял, проверял — мозг у него работал все время, как мотор. Однажды он мне сказал: «Я чувствую себя как объевшийся человек: меня распирает, я должен с кем-то поделиться мыслями. Понимаешь, у меня все в голове, мне скорее нужно все изложить в книгах». Единственное, что он успел написать в лагере между тяжелыми работами — это книга «Хунну». Писал на листочках, которые ему приносили зэки. Так как он был человек уже очень больной (у него началась язва двенадцатиперстной кишки), его часто освобождали от работ, и он мог писать. У меня сохранились четыре тетрадки (вернее стопки листочков, подобранных по цвету — зеленые, розовые и т.д.), в которых мелким подчерком, буквально бисером, были сделаны записи. Причем все это написано так чисто и четко, как будто он с чего-то списывал. Во время второй посадки 1949–56 годов книги у него были, тогда уже разрешали присылать. Он все время просил: пришлите книги. Ну и, конечно, выручала феноменальная память, благодаря которой у него была колоссальная подготовка.
Во время наших долгих прогулок по пригородам Ленинграда Лев рассказывал не только о серьезном, а мог и посмеяться, и анекдот рассказать. Вообще он был очень смешливым человеком, очень веселым. Он никогда не вспоминал свои лагеря и связанные с ними трагические моменты. Но мне известно, конечно, несколько таких трагических случаев из его жизни.
Однажды в Норильске он спускался в шахту; там была не лестница, а какие-то деревянные балки, какие-то «пальцы», которые шли в шахматном порядке, через один. И вдруг у него на голове погас фонарь, он завис неподвижно, не видя, куда наступить дальше. Некоторое время простоял так, а потом решил ступить наобум, и только стал спускать ногу, как фонарик, слава Богу, зажегся, и он в последний момент увидел, что балки нет, и нога его ступает в пустоту. То есть он мог упасть и разбиться, и только счастливая случайность его спасла. Этот рассказ произвел на меня очень тяжелое впечатление.
Потом он рассказывал, как его спас А.Ф.Савченко, бывший строитель, который сидел с ним вместе, — очень сильный и властный человек. Они со Львом довольно долго были в одном лагере и находились вместе с урками (вообще это было довольно редко, когда их смешивали с политическими, но тогда было именно так). В бараке завязалась какая-то драка. Один урка был сильно пьян и пошел на Льва с топором. Он замахнулся, чтобы ударить, но тут Савченко подскочил и выбил топор из его рук и спас Льва. Такую вот историю он мне рассказал, и Алексей Федорович в своих воспоминаниях тоже об этом пишет.
Характер у Льва Николаевича был замечательный. С ним вообще было хорошо и легко. Он был деликатный человек с идеальным характером, но твердый в принципиальных вопросах науки. И это притом, что у него была такая тяжелая жизнь.
Его обижали с самого рождения, он был недолюбленный ребенок, практически брошенный своей матерью. Он ни от кого, кроме бабушки, не видел тепла. Он как-то сказал мне: «Кроме тебя и бабушки ко мне никто так хорошо не относился».
Ему хотелось от людей внимания, чтобы к нему по-человечески, тепло относились. И когда кто-то проявлял такое отношение, Лев бывал этому очень рад и всячески старался ответить добром. Он очень дорожил моей лаской. Иногда, если он ложился спать раньше, я его благословляла и целовала в лоб. А он всегда говорил: «Спасибо». В нем было столько детского!
Лев работал постоянно, иногда он хотел что-то поправить в тексте и просил допечатать 2-3 строчки, а потом вклеивал их в готовую машинопись. И вот однажды он попросил срочно напечатать пару строк, а я была в тот момент чем-то занята на кухне. Он вспылил. Я говорю: «Ну я же не стерва, я сейчас напечатаю». Он, конечно, извинился, поцеловал меня.
За то время, пока мы были с ним вместе — то есть за 25 лет, он написал все основные свои книги, кроме написанных раньше «Древних тюрок» и «Хунну». Все остальные книги он уже при мне написал, то есть буквально вывалил их из головы. У него все время было стремление работать, работать, работать. И это его больше всего радовало.
Так как я художник и понимаю, что такое творчество, то для меня его занятия — это было святое. Я знаю, что когда человек погружен в науку или в искусство, его нельзя трогать, у него прерывается мысль. Это не все понимают, для этого надо самому пережить творческий процесс. Это нужно чувствовать, очень любить человека и очень уважать. И он, видимо, был мне за это благодарен. Первая книга, которая у него при мне вышла — «Поиски вымышленного царства». Я делала к ней обложку и пять шмуцтитулов. В том же оформлении она была потом издана на испанском языке.
Вообще история издания книг Льва Николаевича — это отдельная и довольно непростая тема. Например, была неприятная история с книгой «Конец и вновь начало». Мало того, что в издательстве «Наука» изменили название на слишком наукообразное «География этноса в исторический период», и довольно грубо порезали текст, так под конец во всем готовом тираже в 30 тысяч, видимо по указанию сверху, замазали черной типографской краской на задней сторонке переплета очень положительное высказывание Д.С.Лихачева о Льве Николаевиче и его книге. Вообще редакторы иногда просто издевались надо Львом. Например, был такой Кунин в «Востокиздате», он редактировал книгу «Хунны в Китае» и намеренно перепутал все надписи на картах, снял подписи, книга вышла без указателей и со значительными купюрами.
У книги «Этногенез и биосфера Земли» вообще была пятнадцатилетняя история мытарств от депонированной в ВИНИТИ рукописи до нормальной книги. Тем не менее, несмотря на все козни, неприятности и обиды, Лев Николаевич все-таки напечатал к концу жизни все, что хотел. И дело, конечно, не в обидах — он думал прежде всего о том, как довести свои мысли до людей, до читателей и побудить их к размышлениям.
* * *
Очень тяжелым для Льва Николаевича на протяжении почти всей его жизни в науке было непонимание коллег-ученых и нежелание общаться с ним из-за постоянного надзора органов. Он говорил: «Мне не с кем поговорить. Весь ужас в том, что мне негде проверить свои мысли, свои теории. Если бы они могли хотя бы поспорить со мной, опровергнуть или поддержать. Ведь наука всегда требует обсуждения». Это особенно важно, когда делаются новые открытия, да еще в пограничных областях, на стыке наук, как это было в случае с пассионарной теорией этногенеза. Те академики, которые писали на Льва доносы в ЦК КПСС (Бромлей, Григулевич, Рыбаков), не откликались на его призывы вступить в открытую дискуссию. Их статьи печатали, а Льву почти никогда не давали ответить. Академик Ю.В.Бромлей однажды принародно заявил: «Я не могу дискутировать с Гумилевым, потому что не знаю так историю. А Гумилев ходит по всемирной истории, как по своей кухне!»
Лев искал подкрепления своей теории пассионарности со стороны естественных наук — географии, биологии, генетики. Его очень интересовало, что могут сказать о его выводах представители этих дисциплин.
Отношение ко Льву Нико-лаевичу ученых-коллег всегда было очень осторожным. Его все боялись из-за его лагерного прошлого. Рядом с нами жил декан географического факультета ЛГУ, почтенный ученый Б.Н.Семевский. Лев всегда был очень аккуратен с бумагами; когда он уезжал на лето в Москву, то всегда подавал заявление на факультет, указывал сроки, просил дать отпуск. Декан жил в соседнем доме, причем очень хорошо относился ко Льву, так как, будучи сам ученым, хорошо понимал значимость Льва Николаевича. Но никакой близости он допустить не мог. Лев вынужден был ехать в Университет за этой подписью, вместо того чтобы подойти к декану домой и просто подписать заявление. А когда они попадали в один автобус по дороге на работу, Семевский пересаживался куда-то назад, чтобы только не сидеть рядом со Львом. Правда, когда Лев Николаевич решил защищать свою теорию этногенеза в виде второй докторской диссертации (так как иного способа обнародовать свои взгляды у него не было), декан поддержал его идею. Из Москвы были приглашены два оппонента-профессора — генетик Ю.П.Алтухов и географ Э.М.Мурзаев.
Ученый совет геофака ЛГУ единогласно утвердил его диссертацию, а ВАК — нет, и при этом там заявили: это больше чем докторская, а потому и не докторская; утвердить не можем, потому что это открытие, в котором мы не компетентны. Диссертацию печатать не разрешили, а разрешили только депонировать. После депонирования рукописи в ВИНИТИ несколько тысяч экземпляров этой работы было напечатано по заказам читателей. Вся типография ВИНИТИ работала на копирование Гумилева. Работяги из типографии очень тогда выиграли: они под телогрейками выносили три ротапринтных тома за ограду типографии, а к ним подходили и спрашивали: «Гумилев есть?» и покупали. Потом руководство ВИНИТИ, наконец, сказало, что больше печатать не будут, потому что сколько же можно — ибо научная организация, где книга была одобрена, должна ее напечатать. И только через 15 лет после защиты (1974) — в 1989 году Университет напечатал книгу «Этногенез и биосфера Земли» с «кисло-сладким» предисловием Р.Ф.Итса.
* * *
В заключение самое трудное — о последних днях Льва Николаевича, для меня до сих пор это тяжелые воспоминания. Я всегда относилась отрицательно к Академической больнице, но меня уговорили отправить туда Льва для лечения язвы, так как там есть барокамера, которая как будто дает хорошие результаты.
После семи сеансов Лев сказал: «Я больше не пойду туда, мне это не помогает». Но врачи, которые его лечили, заявили: «Нет, мы его не отпустим, надо чтобы язва зарубцевалась». И начали лечить его облепиховым маслом, что в принципе можно было делать и дома.
Мне надо было готовить еду, а возить туда нужно было через весь город на метро и на автобусе. Поэтому Льва часто навещала наша помощница Елена Маслова, жившая рядом с больницей. Ученики — Костя Иванов, Оля Новикова, Слава Ермолаев, Володя Мичурин — приходили и читали Льву научные книги и фантастику, которую он очень любил. Это его отвлекало.
Наконец, я забрала Льва из больницы, но дома ему стало очень плохо, поднялась температура, начались страшные боли. Пробыл он дома всего неделю. Я вызвала скорую помощь. Те сказали: «Подозрение на воспаление легких, надо в больницу», и, конечно, отвезли опять в академическую. Я сказала: «Лёв, я приеду завтра утром». Вдруг рано утром звонит Лена Маслова и сообщает: «Я пришла к Льву Николаевичу, а мне говорят, что его увезли на операцию!» — «Как на операцию? Почему мне не позвонили?»
Его нельзя было класть на операцию. Они ему удалили весь желчный пузырь, а этого нельзя было делать — ткани были очень тонкие. Лопнула его чуть зарубцевавшаяся язва и образовались новые язвы, началось сильное кровотечение. И уже остановить было нельзя. В это время очень помог Александр Невзоров: он объявил в своей передаче, что нужна кровь, и доноров пришло много.
Меня не пускали в реанимацию. Я звонила утром, вечером. Вдруг мне звонит из реанимации доктор и говорит: «Лев Николаевич очнулся и хочет есть, а у нас кроме соленой трески ничего нет. Так что приезжайте, привезите кашу».
Это Лев, конечно, придумал предлог, чтобы повидаться. Лев лежал в отдельной реанимационной палате весь бледный, опухший, опутанный проводами.
Он хотел меня повидать: видимо, чувствовал, что уже кончается. Посмотрев на кашу, сказал: «Ты чернослива туда не положила». — «Завтра привезу». Но завтра уже не было. Наконец мне сказали, что больше оставаться нельзя. Я поцеловала ему руку, поцеловала его самого, то есть простилась с ним.
Я спросила: «У тебя что-нибудь болит?» — «Нет, ничего не болит».
15 июня Лев умер.
Н.В.Гумилёва
Печатается по: Лев Гумилев: Судьба и идеи. — М.Айрис-Пресс, 2003 (в сокращении)